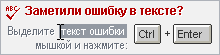Поэзию убили рэп и интернет
Израильский автор Pravda.Ru побеседовал с иерусалимским писателем и издателем Владимиром Тарасовым. По слухам, наш бывший соотечественник продал все, что имел, чтобы выпустить несколько книг. Практически всю свою жизнь он положил на благо развития русскоязычной литературы… Сейчас его взгляд на эту область искусств весьма не оптимистичен.

До сих пор я предполагал, что я — очень жесткий и язвительный литературный критик. В нашем тесном русскоязычном Израиле, где подавляющее большинство отзывов на выход новой книги, театральную премьеру или самодеятельный перфоманс (словом, на любое культурное событие) пишутся в жанре мягкой похвалы, даже одно неодобрительное слово о результатах чьей-либо деятельности выглядит весьма неосторожным. К примеру, стоит хоть чуть-чуть похулить завлита театра "Гешер" Рои Хена, который позволил себе переписывать тексты несравненных драматургов Эрдмана и Вампилова — и никогда больше не получишь бесплатных журналистских приглашений на премьеру "Гешера". Или укажет литературный критик на явные ляпсусы и вопиющую безграмотность в искусствоведческой книге Галины Подольской с приведением точных цитат, а возмущенный автор наймет адвоката и подаст судебный иск о коммерческом ущербе: мол, такая информация о книге злонамеренно мешает ее продаже. Короче, только мягкая похвала и нежное щебетание.
И на этом фоне я казался себе злым, но справедливым волком. Увы, моему самомнению пришел конец: я познакомился с трудами гораздо более сердитого критика, который, по его собственным словам, более 35 лет занимается книгами на русском языке и полагает, что ситуация в литературе только ухудшается. Это иерусалимский писатель и издатель Владимир Тарасов. Вот несколько строк из его эссе "Акценты южных песен": "…Повалила в Израиль огромная волна эмиграции из Совка. Она внесла неразбериху; словоблудие на высоком счету среди русских евреев было всегда, а тут они развернулись — воздух свободы, надо воспользоваться! Совковую интеллигентскость стремились "выдать на гора" сотни графоманов, вылупившихся откуда-то журналистов, ослепленных неофитов, перелицевавшихся партийных работников… Нас, кое-как выживших, захлестывала совковая (постсоветская, антисоветская, вместосоветская) шаблонность мысли, хотя вроде бы всем изначально ясно: автоматически навязывать культурные коды одного региона другому — дело неблагодарное. Впрочем приехали не только неучи, мошенники и ослепленные неофиты, приехало немало литераторов, поэтов в том числе".
Солженицын в "Архипелаге ГУЛАГ" приводит чудесную, ныне забытую русскую пословицу: "Не люби поноровщика, люби спорщика". Дельно. Прислушиваться нужно не только к похвалам. Из конструктивной критики можно вынести не меньше оснований для грядущих свершений и похвал за них.
О перспективах русской литературы в Израиле, особенно смутных в ожидании нового значительного притока алии из СНГ, я и попытался побеседовать с Владимиром Тарасовым. Это жесткий, неулыбчивый, строгий немолодой человек. Живет он в Израиле с 1974 года, а не с начала 90-х, как многие и многие из Большой алии. Заслуженные ватики успели за это время обзавестись собственным жильем и необременительной работой в ожидании солидной пенсии. Тарасов не таков: обретенную квартиру он продал, деньги истратил, в частности на издание книг на русском языке, должностей и выгодных политических связей не заимел. Он редактировал выходивший в Иерусалиме журнал "Слог" (всего три номера) и два альманаха: "Саламандра", еще до Большой алии (два номера), и "Знаки ветра" — в начале десятых годов нынешнего века (вышло аж семь номеров); выпустил несколько книг прозы и стихов.
— По слухам, чтобы иметь возможность заниматься издательским делом и литературным трудом, вы продали свою квартиру, обрекли себя на безвозмездные труды и лишения. Верны ли эти слухи? По этому поводу мне вспоминается фраза Венедикта Ерофеева из его поэмы в прозе "Москва-Петушки": "…Для чего нужны стигматы святой Терезе? Они ведь ей не нужны. Но они ей желанны". Добились ли вы желаемого?
— Добился, по крайней мере, частично. А вот слухи слегка преувеличены. Связь между двумя событиями, конечно же, есть; но не все так просто. Продать квартиру я был вынужден, обстоятельства заставили. Но верно и другое: не будь денег от продажи квартиры, затея с изданием ряда книг осталась бы в области фантазий.
Зато по поводу безвозмездных трудов и лишений подавляющее большинство моих коллег, полагаю, согласится: да, литературный труд с этим сопряжен в наше время. Да и не только в наше. Цветаеву кормили стихи или проза? Нет. Может быть, кто-то думает, что Кручёных с этого жил припеваючи? Нет. Разве Сашу Соколова до самой пенсии кормила и одевала литература? Нет. А как перебивался Венедикт Ерофеев?… Так что — пока все терпимо, бывало и хуже.
— Вы давно живете в Израиле; изменилась ли местная русскоязычная литература за это время? И если да, то в чем эти изменения проявились?
— Ох, изменилась! К худшему. Кто-то уехал, многие умерли, воцарился средний вкус. Этот вкус еще и муссируется пиарщиками всех мастей! Хотите, расскажу чудную историю? Издав "Альтернативную антологию прозы", я, разумеется, пытался ее продавать. Шло довольно туго. Спросил однажды у приятеля: почему с таким скрипом продажа идет, что он думает? И тут он мне выдает: "В головы большинства читателей вбито одно литературное имя, от силы два. Знаешь, очень странная вещь: мои сверстники, люди лет сорока и старше, — все они в Израиле живут уже лет по двадцать, — когда смотрят содержание твоей антологии, спрашивают: "Что-что? Даже Дины Рубиной нет? Так это еще хуже!" Забавно, не правда ли?
А те, кто не хочет заигрывать с "общепитом", уходят в зону опасных рифов, какой бы погода ни была. Такие тоже есть; их с десяток, может, полтора, вряд ли больше. Но их слышать не хотят. И потому все скисает, гниет, катится к худшему из вариантов.
— Насколько мне известно, изданная вами "Альтернативная антология прозы" готовилась к печати около десяти лет. В ней — семь авторов, но только двоих, к глубокому прискорбию, нет с нами сегодня: Изи Малера и Моше Винокура. Почему же вы утверждаете, что "умерли многие" писатели вашего круга?
— Не двоих уже… Савелий Гринберг умер, Илья Бокштейн умер, Аня Горенко, Михаил Генделев, блистательная Майя Каганская. Аркан Карив уехал и умер в Москве. Волохонский уехал, Гиршович уехал. Александр Гольдштейн умер, а Саша Бренер и Евгений Штейнер уехали. Шаргородский тоже уехал. Владимир Орел уехал и там умер. Ими список не ограничивается, увы, я мог бы продолжить. И все они — мой круг, вне зависимости от личных симпатий и отношений. А вот вы не из моего круга!
— И очень этому рад! Но оставим пока в покое Израиль. Следите ли вы за современной литературой России и других стран, где живут русскоязычные общины? Какие изменения, по-вашему, претерпевает в наши дни литература?
— Не то, чтоб очень пристально, но до последнего времени следил. Определенные тенденции наблюдаются, и они приятные. Скажем, лет двадцать назад верлибр был в загоне, по большому счету. Сейчас к верлибру журналы терпимей относятся.
Еще одно занятное изменение — концептуализация стихового пространства. Айги с одного края, а Пригов с противоположного свое дело сделали, повлияли на ситуацию. А в определенных кругах решили, видимо, что поэзия должна отвечать посылам и умозаключениям современной философии; такая мода. То есть, ежели мы текст можем "подогнать" под Бланшо или Делёза, тогда вполне годится, современно.
— Вы позиционируете себя как человека литературы, верно? Иными словами, литература для вас — дело жизненно важное, необходимое, обязательное? Что хорошего в жизни принесла вам эта стезя?
— Я поэт, этим все сказано. Пускай литературоведы зовут себя людьми литературы, а я поэт. Я не работаю в прозе, моя проза — проза поэта. Место поэзии, да и литературы вообще во всем мире сдвинулось ближе к задворкам культуры. Технологии на коне; фундаментальная наука тоже проигрывает "прикладухе". Поэзия сейчас — удел единиц. Рэп ее подменяет для многих, и делает это весьма успешно. А доступность интернета и возможность там без труда опубликоваться изъедает поэзию изнутри. Эта легкость сказывается на качестве — поток-то огромный; но что в нем можно выловить — непонятно. Короче, я не оптимистично настроен. Скорее наоборот.
— Вы считаете, что поэзия может изменить мир к лучшему? Удавалось ли ей это в прошлом?
— Разве что в древности, когда население городов измерялось тысячами. И то — не факт. Даже Ренессанс правила игры в мире не изменил. Они остались теми же: выгода, а ради выгоды — все, что угодно. Зато конкретного человека поэзия может изменить — и изменить именно к лучшему.
— Поэт, по-вашему, это социальная роль, самореклама или клеймо неудачника? Вправе ли любой незнакомый вам человек, стихотворений которого вы не читали, именовать себя "поэтом не хуже Тарасова"?
На этот вопрос Владимир Тарасов не ответил. Что ж, ответ легко нашелся в написанной им статье "Поляна волшебства", там сказано: "Утверждение себя в мире — главное усилие лирического поэта". Похоже, Владимир абсолютно искренен в этом, и уверен, что недостаточное признание поэзии окружающим социумом есть признак упадка. Понятно, что при такой позиции существующее положение вещей трудно не принять близко к сердцу, и рассердить оно способно изрядно.
О сердитости этого автора можно судить по множеству эпизодов его прозы. Приведу лишь один — из повести Тарасова "Фрагменты посвящения". Автор описывает приятного ему персонажа, которого охарактеризовал так: "Назовем ее Лисицей, чтоб никто не понял. Но чтобы все узнали". Узнали? Я — не узнал, хотя, как верно предположил автор, и не понял. Но характер у нее просто золотой, а именно: "Не одному человеку досталось от нее, острый ее язык заходился, речевые фильтры отказывали, за эпитетами уже не уследить, с ее уст срывалась злобная ругань каторжного пошиба, справедливая или нет — значения не имеет".
Представляете, как должен был допечь окружающий мир женщину, чтобы с ее уст срывалась злобная ругань каторжного пошиба?! Представляете, насколько сильно должен был допечь окружающий мир автора, чтобы он предположил, будто злобная ругань каторжного пошиба, срывающаяся из уст симпатичной женщины, может оказаться справедливой? И ведь не о драке на каторге речь идет, не о тюрьме, не о войне. Автор описывает обычное, повседневное существование персонажа в том самом мире, который почти всеми его читателями воспринимается как обыкновенный, знакомый, привычный.
На мой средний, честный "общепитовский" взгляд, злобная ругань каторжного пошиба справедливой быть не может ни в каком случае. Но у истинного поэта иная острота восприятия, а потому и взгляд иной. Его гнев не открывает двери сознания, а ломает его стены. Судьба не дала мне счастья по праву называть себя поэтом и даже выбора в этом не оставила. Значит, не повезло. Но, побеседовав с поэтом Владимиром Тарасовым, я задумался: может быть, такое невезение оказалось для меня спасительным…