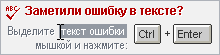Николя Бонналь о грядущем изменении мира
"Не позволено ли нам предположить, что Железная Башня предназначена (словно некий знак или символ) к исполнению и развязке мрачной драмы, что называется Рассеянием народов", — эти слова, написанные в XIX веке французским мыслителем-мистиком Леоном Блуа, по мнению нашего постоянного автора, философа Николя Бонналя, вполне актуальны и в наше время.

Не знаю, что именно миллионы — или же десятки миллионов туристов — приезжают ежегодно искать на Эйфелевой башне. Сам я могу, по крайней мере, указать на то, что думал Леон Блуа по поводу этой самой Эйфелевой башни.
Отчаявшийся католик, Леон Блуа (1846-1917, французский писатель, мыслитель-мистик — ред.) искал знаков в своей эпохе, которая стала и нашей с вами эпохой. Он видит себя в роли комментатора Конца Времён. И пытается толковать эсхатологические проявления, которые появляются вокруг него: бурская война (обвал императорской и торговой мощи Британии), Великая Война и Пруссия (мировое смертоубийство), казаки и Святой Дух (накануне русской революции!), прогресс буржуазной посредственности, а также прогресс механики, медицины и промышленности, которые положили конец старой, тысячелетней цивилизации, зиждившейся на сельском хозяйстве.
Образы, используемые Иисусом, исходят от земли, от сельского хозяйства — по этому поводу французский философ начала 19 века Амбруаз Бональд пишет, что "Евангелие, которое является основоположным законом общества, постоянно сравнивает царство с земледельческой семьей". И вот, оказывается, что этому старому порядку приходит конец, и человечество впадает в допотопный — в прямом смысле каким был мир до Потопа — мир Вавилона и Тубал-Каина, в мир необъятной индустрии, творящей новый вид живого существа. Великие романы-посвящения Джона Толкиена — этого вдохновенного католика — тоже отобразили в себе переход из одного типа мироустройства к иному. Мировые войны с их 80 миллионами (или больше) жертв, станут тому ярким доказательством.
Читайте также: Европа: свидание с Сатаной через 300 лет
В метро, открытом в 1900 году Блуа увидит сошествие в ад (говорят же по-английски — subway — "подземка"!); а об Эйфелевой башне он напишет замечательные и непревзойденные по своей силе строки, достойные его вдохновения. Для него эта башня стала символом глобализации, она воплощает сближение народов ("Железный Вавилон" — так он пишет в феврале 1889):
"А, в ожидании не позволено ли нам предположить, что Железная Башня предназначена — словно некий знак или символ — к исполнению и развязке мрачной драмы, что называется Рассеянием народов, чему Кирпичная Башня была "чудесным свидетелем"?
Это новая, чисто материальная коагуляция — конец народов, замещенных анонимными массами производителей и потребителей. Словно он уже видел орды туристов, пришедших со всех краев света, чтобы биться за то, чтобы подняться в лифте на эту адскую башню… с иронией и драматизмом Блуа воспевает собрание наций:
"Да и самые слабоумные, между прочим, не далеки от понимания того, что время этого собрания народов является бесконечно своеобразным. Народы придут толкаться и взирать друг на дружку под несоразмерными арками Левиафана, вершину которых, посещаемую грозами — как некий второй Синай — будут порою скрывать облака".
Построенная к Международной выставке 1889 года, посвященная со своими 1789 ступенями вечной и всегда новой Республике, Эйфелева башня, несомненно, имеет призвание в собирании масс этого нового народного железного века, означенного выработанным средствами массовой информации как братство наших современных стад:
"В этот день все языки Рассеяния заговорят и будут пытаться узнать друг друга. Все будут аплодировать и поздравлять друг друга с тем, что снова собрались вместе. Все будут обоюдно лизаться — от народа к народу — от кончиков больших пальцев ног, до макушки головы. Все войдут во всех — по-братски и даже по-супружески".
Но тут пророческий гений наносит удар; в 1889 Блуа уже видит торговую глобализацию, но он также замечает и наступление столкновения цивилизаций, и приход мировых войн с их бесчисленными скопищами людей, которые вдохновят Толкиена на сотворение образа орков. И вовсе не случайно речь пойдет именно о башнях, которые падут — ("тур" по-французски — "башня", ведь можно обыграть многозначность этого тревожного слова) или, скорее, разрушаться 11 сентября в начале нашего века:
"Затем, точно не зная зачем, лишь потому, что пробил некий положенный час, все разделяться как прежде, но лишь на некоторое короткое время. Все отступят на пару шагов, чтобы подготовиться к резне — в недалеком будущем, где вытянутся миллионы солдат двадцати армий, чья металлическая схожесть будет сосредоточена в единой точке — в месторождении душегубцев".
Блуа также видит, как Средиземноморье наполнится кровью. Однако башня остается объектом парадоксального влечения. Восхождение на неё превращается в духовный опыт, как это увидит итальянский писатель Дино Будзатти в одной из своих прекрасных новелл. И тут Блуа познаёт иную великую, катастрофическую, сатанинскую интуицию: промышленный экстаз может заместить собою экстаз религиозный:
"Мне очень хотелось взойти на эту скинию головокружения до того, как её строительство закончат, и, признаюсь, мой ступор превзошел мое ожидание. До сего момента мне было невдомек, и я бы почти не поверил, что расцвет, тотальное расширение чистой силы, порабощенной и дисциплинированной при помощи самой совершенной математики, может достичь души в том же месте и с той же энергией, что и само Искусство".
Троцкий, между прочим, скажет, что кино должно заменить церковь (к счастью, не целиком и полностью…). Именно простота и вульгарность этого индустриального экстаза — экстаза довольно легкого — глубоко воздействует на Леона Блуа:
"Спокойствие труда эмпирейного скалолаза кончается тем, что наполняет тревогой душу свидетеля, как одержимость желания повелевать наполняет падший дух".
Блуа не доходит до конца своего впечатления — а то бы это все превратилось в научную фантастику, мы знаем, что это совсем неплохо для иных мечтателей его времени — Герберта Уэллса, Жуля Верна или Теодора Герцля. Он предпочитает закончить иной ворчливой констатацией:
"И вообще, в этой башне не чувствуется родственного духа, как в других памятниках Парижа. Она больше походит на иностранку с Востока, и мы можем догадаться, что она никогда не пожалеет наших нищих".
Современный мир уже не знает, что такое настоящий бедняк, который теперь, в любом случае кормится и опекается мегамашиной — машиной административной и ниспровергающей; современный же мир будет знать лишь свои "белые воротнички", своих безработных и средний индустриальный класс. Кончайте аплодировать и перечитайте Александра Кожева (философ-неогегельянец — ред.), который в духе, близком Блуа описывает наших будущих демократов:
"Животные, принадлежащие виду Homo sapiens, отреагировали бы условными рефлексами на звуковые и мимические сигналы, а их, так сказать, "речи" были бы похожи на так называемый "язык" пчел… То, что исчезает, это не просто Философия и поиск рассудочной Мудрости, но снова-таки — это сама Мудрость".
Также Александр Кожев точно описывает маленькое общество Конца Истории, которое обозревает со своей Башни Блуа, — этот тот Конец Истории, который, как можно увидеть в трудах самых просвещенных из христиан, длиться, словно нескончаемые титры неведомого фильма. Дадим же завершающее слово великому просвещенному:
"Я жду прихода казаков и Святого Духа".
Это он написал в 1915. А потом были большевики и коммунизм.
Перевод Татьяны Бонналь
Читайте самое интересное в рубрике "Общество"