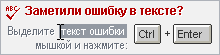Интервью с театральным режиссером Марком Розовским
В гостях у главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой — художественный руководитель театра "У Никитских ворот" Марк Розовский. Театр — живой организм, — говорит режиссер, и откровенно рассказывает о самом сокровенном — о том, как рождается спектакль, как дышит закулисье — от рождения замысла спектакля до волнительного экзамена перед зрителями.

— Марк Григорьевич, ваш театр неизменно популярен у зрителей. Аншлаги на спектакли — это норма. Даже сейчас, когда вроде уже не такое театрализованное время, по сравнению с 80-ми или 90-ми годами. Как вы угадываете потребности людей? Как видите, что сегодня нужно зрителю?
— Первое, что мы должны понимать и очень высоко ценить, это то, что наш театр-студия творит абсолютно свободно в бесцензурном пространстве. Никаких препон, никаких бюрократических указаний. Никто не в праве прийти и сказать мне, вот это ты должен ставить, а это нет. Вся ответственность — на художнике, на том человеке, который работает со мной, с артистами; он выбирает пьесу, и он может делать все, что он хочет.
Посмотрите наш репертуар. Там я отвечаю за каждый опус, за каждое представление. Это я принимаю на себя ответственность и решаю, что я хочу ставить, что я считаю нужным в 2011-м, 2012 году. Каждый год — это новый сезон. Когда Константин Сергеевич Станиславский открывал Московский Художественный общедоступный, заметьте, театр, в письмах к Немировичу-Данченко он писал: "Необходим в следующем сезоне некий захват зрителя". Захват зрителя! Вы представляете, как говорит Константин Сергеевич. Он думает о привлечении публики в свой общедоступный театр. Но это не значит, что он подгоняет под низкопробные вкусы выбранный им репертуар. Это значит, что нужно найти ту высокую драматургию, высокую литературу, которая бы открывала духовный мир для зрителя, ставила новую задачу, новую планку.
Читайте об открытии новой сцены "Театра у Никитских ворот":
М. Розовский: "Наш театр вышел из коммуналки"
Нужны новые формы — и появляется Мейерхольд. Он экспериментирует и важно сделать так, чтобы этот эксперимент был доходчивым. Не эксперимент ради эксперимента, хотя и такой театр нужен: театр-лаборатория, чисто экспериментальный для какой-то части зрителей. Сегодня в бесцензурном пространстве многие выбирают этот путь. Многие молодые экспериментируют, и слава Богу. Никто им не чинит никаких препятствий. Право зрителя принять этот эксперимент или же, наоборот, сказать: "Не хочу я это видеть. Пойду к другому художнику, к другому мастеру!" Выбирайте! Это очень важно. Это великое достижение. Между прочим, достижение перестройки. Еще во время перестройки Горбачев отменил цензуру. Сегодня никто ко мне не приходит с какой-то идеологемой определенной. Вот она заставляет думать: "А пойдет зритель на это название или не пойдет?"
— Но ведь не только на название ходят?
— Иногда ходят на название. На имя артиста, которого видят в сериале. Но это мы говорим о потребителе. Действительно, вкусы сегодня принижены, недаром говорят о дебилизации нашего общества. Телевидение сделало свое дело. Хотя не могу сказать, что культурный уровень общества совсем упал. Есть у нас и интеллигенция, и читающая публика. Нельзя говорить, что мы были читающей страной, а теперь мы ничего не читаем.
Все 29 лет в моем маленьком театрике почти всегда аншлаги. У нас есть свой зритель, который все время освежается, обновляется. Он уже не такой, как 30 лет назад. Он поменялся, и это наше достижение. У нас в репертуаре только четыре чеховских спектакля, и я горжусь тем, что они пользуются спросом и прекрасно принимаются публикой. "Дядя Ваня" идет около 20 лет с немеркнущим успехом. Это не потому, что я хвастаюсь, не дай Бог, вы меня неправильно поймете.
Я часто бывал свидетелем того, что зрители не ожидают, что встретятся с большим искусством. А когда встречаются, то невероятно благодарны, потому что они даже не предполагали, что такое может быть. Они открывают для себя в театре того же Чехова. "Опять Чехова поставили, это мы уже видели, это уже слышали", — сплошь и рядом такие мнения возникают. Чехов — это скучно, это нудно? Где он видел этого Чехова и сделал этот вывод? Приди в Театр у Никитских ворот, кладу голову на рельсы, если тебе будет скучно.
Для меня лучшей рецензией стало, когда после "Дяди Вани" какой-то человек незнакомый схватил меня за локоть, его буквально трясло от волнения. И говорит: "Я сегодня был в раю. Спасибо". Вот это лучшаярецензиядляменяивысшаяоценкатеатра"УНикитских ворот". Это лучше, чем Золотая маска, и ради этого стоит еще что-то делать.
Конечно, нужно думать об успехе. Но не о таком, который достигается с помощью абсолютной дешевки, низкопробной порнухи, удешевленного псевдоискусства. Все это я называю псевдятиной. Есть псевдятина, а есть то, что на сливочном масле.
— В Большом театре не так давно прошла премьера оперы "Руслан и Людмила", куда добавили эротические сцены. От кого зависит такая вольная интерпретация и обращение с материалом? От режиссера? А если режиссер не имеет в достатке вкуса, таланта и опыта?
— Зависит от режиссера в первую очередь. Но не только от него, но и от автора, актеров, директора. Зависит и от кассира, и даже от билетера. Все это вопрос ответственности художника, который берется за создание произведения искусства. Если это человек искусства, то он эту ответственность обязательно несет. Он даже может рисковать, может искать новые формы, какие-то свежие ходы. Его прочтение обязательно личное. Я в этом смысле в меру пытаюсь навязать свою волю — не диктаторскую, а художественную — каждой своей работе, поэтому я отвечаю за то, что я сделал.
Читайте также: Николай Цискаридзе: Большой меня погубил
— Вы пытаетесь навязать ее зрителям или артистам?
— Сначала артистам. Но что значит навязать? Нельзя просто провозгласить и приказать. В театре ничего приказать нельзя. Вот увлечь — это входит в мою профессию. Бывает, не верит человек и не считает, что я его увлек. Я мучаюсь, он мучается, но наконец наступает момент, когда мы приходим к какому-то согласию. И такое бывает. Это не гладкий процесс. Словами можно убедить, но потом это же надо все воплотить.
— А если вы говорите, убеждаете, танцы с бубнами устраиваете, а он не понимает. Что тогда?
— Горе горькое. Депрессия возникает в момент неверия в свои свои собственные силы. Ходишь, мучаешься, не спишь ночи, придумываешь как его переубедить, но находишь.
— А бывает, что он вас переубедит?
— Бывает. Ну что я глухой, я что, идиот? Я что, владею истиной? Нет. Я передаю то, как я чувствую, как я понимаю. Дальше я выслушиваю, если есть протест, я обязательно должен его принять, обсудить. И мы должны найти общее и обязательно его найдем, потому что мы оба заинтересованы в результате, в нашем общем деле.
Вот сейчас я ставлю Кафку. Я пригласил двух литературоведов, которые прочитали лекции об этом сложнейшем писателе тому коллективу людей, который работает. Это потому, что я чувствовал — меня им мало. Я сознательно пошел на это, чтобы они услышали не только от меня. Одних это вдохновило, другие сказали, что они не согласны с таким видением. Но все были задеты.
Дальше на репетициях начались творческие обсуждения. И, естественно, они иногда перерастают в какие-то дискуссии, диспуты. Возникают конфликты. Театр — это живое дело. Здесь нельзя сказать: "Так, вышел, говори вот этот текст, повернись направо, выйди слева, здесь ты ему жмешь руку". Да, это тоже присутствует в твоей работе, но это уже второе. Наступает этап, когда смысл становится ясен, когда мы докопались до глубин, когда мы капнули. Вот у нас сейчас в театре много спектаклей, которые созданы, так сказать, без застольного периода. Я спрашиваю у своих коллег: "А у тебя застольный период был?" Он мне: "А ну его, зачем он мне?" Взяли пьесу, раскидали реплики, я сказал, что нужно делать, потом декорацию нарисовали, спели, сделали и пошло. А в результате получается пшик.
Есть спектакли, где я специально говорю: а вот здесь зона импровизации, или, как говорил Мейерхольд, композиция в пределах заданной композиции. Мы с вами сейчас разговариваем, а перед вами листок бумаги с планом интервью, но неизвестно, куда нас поведет в нашем разговоре. Так и в театре. Ты все придумал себе, расписал, сделал. Тебе кажется, что все абсолютно ясно. Но на тебя артист смотрит пустыми глазами. Ты чувствуешь, что мимо него все это сделал, и начинаешь снова талдычить: "Раз, два, три". А потом он говорит: "А можно я вот так попробую?" Черт, возьми, а он предложил дело, он сейчас живой. А быть живым — это самое важное. Он оправдал доверие. И, может быть, надо — это уже вопрос моей профессии — суметь отказаться, заткнуть свои собственные амбиции.
Читайте также: Влад Маленко: поэзия — дело мужское
Еслиясупорствомидиота буду настаивать на своей ошибочной концепции, то меня никто уважать не будет. Когда приходит в театр артист, то первый год он привыкает. Он после театрального училища, ему — все в новинку. Он совершенно балдеет от того, что ему непривычно, потому что ему педагог говорил вот так и так. А он этому следовал, и все было хорошо. А здесь, понимаете, в моем театре, я ему говорю: "Я не няня. Знаешь, как называлась книга Станиславского? "Работа актера над собой", не "Работа режиссера над режиссером". Где твоя работа? Где Ты? Ты хочешь сказать, что не согласен со мной? Предложи. Давай. Я смотрю.
— А если глупость предложит?
Так я и скажу, что это глупость. Но скажу не само слово глупость — так я могу его оскорбить — а скажу, что неправильно то-то и то-то. Это если мы слышим друг друга. А если нет, то мы расходимся, тогда ты чужой моему делу. Но все это было в первые три-пять лет жизни нашего театра. Сегодня, когда нам 29 лет, я говорю "А", мне говорят "Б". Я говорю "В, Г, Д", а мне уже до конца алфавита отвечают. У меня мгновенный отклик.
У нас закон: лучший актер тот, кто с первого раза выполняет замечание. Тот, кто делает с двух, трех раз, тот не профи. Он должен быть внимательным, у него энергетика должна быть точная. Он должен мгновенно отвечать на предложения режиссера и выполнять задачу. Если не так выполнил, можно повторить, репетиция для того и существует. Репетировать — это значит достигать. Значит будем повторять 15, 17 раз, пока я не добьюсь того, что мне нужно. Но другое дело, что ответить ты должен как можно быстрее.
Читайте также: Почему наши актеры пролетают "мимо кассы"?
— Ну у вас там армейские порядки, дисциплина.
— Ничего подобного. Мои актеры балуются, озоруют, даже когда играют трагическую роль. У них свободные мышцы и свободный ум. Вот это и значит сделать актера своим. Его в первую очередь надо раскрепостить. Приучить его мышцы, его мышление к выполнению определенных задач, к служению высшему, в этом смысл.
"Мы — смысловики", — говорил Осип Мандельштам. И мы читаем его стихи и прорываемся, продираемся. Да, красиво, но иногда непонятно, где же смысл, но когда он открывается через красоту — а именно в этой красоте он скрыт, этот смысл — ты получаешь наслаждение.
В нашем репертуаре много высокой литературы. Я считаю, что литература театру не враг. Нужно просто уметь ее воспроизводить, надо понимать, что такое стилизация, понимать, что такое контрапунктное воспроизведение слова. Поэтому наш театр многожанровый, разностильный, разноязыкий, и, самое главное, разноформный. Актеры Театра у Никитских ворот, прекрасно двигаются, поют, танцуют.
У меня как-то актриса на репетиции сказала, что не сможет спеть. "Что значит не споешь?". "Вы требуете невозможного. Здесь вот эта нота, которую я взять не смогу". Я говорю: "А ты пробовала? Давай теперь будем пробовать вместе". И что Вы думаете? Репетиция закончилась тем, что она благодарила: "Спасибо, что Вы в меня поверили". Вот что такое актеры. Я им не устаю повторять: "Никто из Вас себя не знает себя. У Вас колоссальные резервы!".
— А вы только силой убеждения эти резервы в людях активизируете?
— Я пытаюсь раскрыть артиста. Я сам пою. Я знаю, что есть законы, это техника, техника актерская. В этом и заключается работа режиссера. Режиссер не только общими проблемами интересуется, он может помочь актеру советом, благодаря которому тот почувствует себя увереннее. Это будни.
— Марк Григорьевич, а вы и 29 лет назад знали, как спеть ноту, выражаясь фигурально, или это к вам пришло с опытом?
— Конечно, все достигается каким-то опытом. К тому же, у меня вообще-то нет театрального образования.
— Вы — наш брат журналист. Факультет журналистики МГУ.
— Факультет журналистики, но я интересовался театром. С друзьями организовывал студию "Наш дом" Московского университета. Вот там, где сейчас церковь святой Татьяны. Там было много кружков: фортепьянный класс, оркестр легкой музыки, класс художественного слова. Там начинался и драматический студенческий театр. Я капустниками занимался: на целине, на картошке, в военных лагерях, — везде делал капустники. Фельетоны писал, юморески.
Мне мама все время говорила: "Ну ты выбирай, черт возьми. Если ты театром занимаешься, то занимайся театром. Но тогда почему ты учишься на факультете журналистики?"—"Аясочинения люблю писать!"— отвечал я ей. Я в "Комсомольской правде" и в "Крокодиле" практику проходил. У меня был творческий диплом "Юмористические репортажи и фельетоны". Работал как журналист, работал на радио.
Я очень люблю факультет журналистики. Мне сказали, что я там почетный выпускник и где-то там в библиотеке висит мой портрет. Постеснялся сходить посмотреть портрет. Но мне сказали: "Ты там висишь". Разведка донесла.
— У вас была какая-то цель? Вы делали то, что вам нравилось, просто ставили спектакли либо хотели через них что-то сказать миру?
— Я в своей жизни поставил около 150 спектаклей и до сих пор не понял, в чем смысл жизни. Как можно понять, в чем смысл жизни? Смысл того или иного спектакля я искал. И наше дело не давать ответы. Можем сослаться на Достоевского. Он говорил, что наше дело переворошить все вопросы русской жизни, а ответы — все в меру своих возможностей и сил, так сказать. Выбирает человек свои вопросы, распутывает, иногда выбивается к истине. Но поиск истины гораздо интереснее, чем получение истины в готовом виде, поэтому ты должен найти этот смысл, вырыть его. Ты в процессе, а не в какой-то точке окончательной, то есть сама постановка спектакля есть постижение мира. Это единственно возможное развитие самого себя вместе с тем первоисточником, который ты должен уважать.
Если человек достигает такого уровня, что говорит: "Я все знаю", — и на все имеет ответы, он уже творить не может. Он себя завел в тупик. Я даже вам пример могу один привести. Это из моей личной жизни. Однажды, это еще в советское время было, я открыл газету "Советская культура" и на последней странице прочитал два материала.
Первым было интервью с одним очень знаменитым итальянским режиссером. Его спрашивают: "Над чем вы сейчас работаете?" Он: "Я — в тупике. Я сейчас приехал с киностудии, лег на диван и понял, что мне совершенно нечего сказать миру, я опустошен. Я просто не знаю, что мне делать дальше". Журналист интересуется: "Ну и что же вы будете делать дальше?" Он в ответ: "Я думаю, что именно об этом я и должен снять свою следующую картину".
Рядом было интервью с одним из очень знаменитых советских режиссеров. Вопросы были почти теми же. Его спрашивают: "Над чем вы работаете или собираетесь работать?" "Я хочу сделать фильм о молодежи. Мне кажется, что это очень важная тема. Дальше у меня идет сценарий на экологическую тему. Надо спасать озеро Байкал". "Это очень интересно, — говорит корреспондент. — И это все?" "Ну что вы. Проблема войны за мир. Вы себе не представляете, как это важно. Сейчас и атомная угроза растет. Я над этим постоянно думаю". — "И все?" — "Ну почему все? Я имею очень большой, очень серьезный замысел — несколько романов Достоевского экранизировать".
Фамилия первого режиссера была Феллини, а фамилию второго — советского режиссера — я вам не скажу, потому что его уже, к сожалению, нет в живых. И я, когда прочитал это, расхохотался и сказал сам себе: "У тебя может быть тысяча замыслов, но ты должен вести себя скромнее. Замыслы нужно держать очень долго в сердце". И многие мои спектакли — это замыслы давних лет, которые я пронес через полжизни.
— Сколько времени проходит от замысла до воплощения?
— Иногда замысел рождается и я тут же делаю. Вот я "Метель" сделал тут же. Закрыл книгу Сорокина и в ту же секунду понял, что я буду это ставить, я должен это ставить. Я еще не знал, как, что, но меня вдохновило чтение. С этого начинается, первый импульс возникает. А бывают вещи, когда ты, черт возьми, не знаешь. И тогда в тебе эта глупая вобла воображения ворочается, и ты не понимаешь, с чего начать, как подступиться. И откладываешь. Потом проходит какое-то время, возвращаешься в памяти к этому замыслу. Опять что-то не сходится. А потом вдруг раз! Ты ехал в поезде или пил с друзьями водку, понимаете, или же где-то гулял с ребенком. Или смотрел чужую вещь, которая, может быть, тебе не понравилась, и ты вышел разозленный, раздраженный. Но вдруг вспомнил: "Но у меня же есть замысел!". И вот начинаешь спорить. И вдруг ясно, что ты должен немедленно ответить. Но ответить не публицистически, так сказать, не "обкладывая" своего коллегу, а творчески. Сделай свое! Это очень хороший двигатель.
— А вы знаете, когда это проснется?
— Никогда не знаю. Я никогда не вставлю в план, если я что-то не решил. Но если я решил, как в моем блатном дворе говорили — "хлестанулся", тогда уже…опять-таки любимое выражение, тыизгранита кусокмясадолженвырвать. Тогда ты должен вцепиться в работу. Это воспитывает в режиссере ту самую ответственность. Иногда может что-то из легкомыслия, из ерунды родиться.
Я вот когда читаю про Александра Сергеевича или про Моцарта… Только не сочтите, что я какую-то нескромность говорю. Я говорю о схеме, о том, что так бывает. Ты иногда оказываешься в их положении. Ты понимаешь, что они сталкивались с теми же самыми проблемами, что и ты. Это не потому, что я хочу себя уравнять с ними. Они, конечно, наше все… Но и когда я думаю, что такое Шекспир в конце-то концов? А Шекспир — это тот человек, который должен был каждый год кормить своих артистов и давать им новую пьесу. Что делаю я? Я делаю в точности то же самое. Извините, я, конечно, не Шекспир. Но работа моя такая: я должен каждый год дать своим актерам два-три новых названия. А там уж, как получится.
Читайте также: Актеры не нужны! Гамлета сыграет робот
— А бывает так, что спектакль нужен, а вот нет идеи, ничего не приходит в голову? Душа молчит, а вот все, прямо надо работать, прямо времени совсем нет?..
— Иногда бывают периоды, когда испытываешь некий такой голод или страх. Это тоже очень плодотворное чувство. Страх перед будущей работой. Страх перед чистым листом. А потом цыпленок уже выколупливается из яйца твоего замысла, он пробивает скорлупу, начинает жить, расти. А во что он превратится — в гадкого утенка или лебедем станет… Все это ты должен сам организовать. Конечно, бывают моменты, когда ты чувствуешь свою неуверенность. Черт возьми, что-то я здесь недодумал, что-то я здесь неправильно сделал. Это тоже входит в состав режиссерской профессии — как поменять, найти мужество поменять.
— Бывает такое: главное — ввязаться, а война план покажет?
— Да сплошь и рядом. Я в силу своего характера такой интуитивист. Не люблю художество, которое все по полочкам разложено, заранее все расчерчено. Есть такие мастера. Они все знают заранее, какой у них будет спектакль. А мне НЕ знать, но чувствовать и желать при этом — это в самый кайф. Именно по дороге на репетицию я несколько раз придумывал сцены, которые, может быть, оказались самыми лучшими, смотрелись блестяще. Я это чувствовал.
Я приходил и вот то, что мне показалось, предлагал, и вдруг все вырастало. И ты бываешь счастлив в этот момент. Потому что тогда все в гармонию приходит. А бывает тупик. Ты споткнулся… Но тут есть несколько приемов. Алексей Николаевич Арбузов, мой учитель в драматургии, всегда говорил: "Никогда не пишите одну пьесу. Вы пишите две или даже сразу три пьесы". Я этот завет прекрасно помню. Ну как это одновременно писать три пьесы? Он объясняет: "Да вот так. Вот у вас здесь тупик, вы эту пьесу захлопнули, отложили и взяли другую, черновик. Вот, и здесь пошло".
Так что эти пути творчества неисповедимы. Это тайна творчества. У каждого она своя. Здесь нельзя сказать: "Вот ты режиссер, вот только так делай". Я своим студентам режиссерского курса говорю: "Доверяйте своему сердцу. Куда вас поведет… Только неукоснительно идите за этим".
Но никто никаких гарантий никому дать не может. Это проклятое наше дело, оно такое! Когда ты на премьере, когда ты довел дело до конца и вот уже они все играют. Они надели костюмы, вот ты уже поставил свет, зрительный зал заполнен, и у тебя -ты-ды-ды-ды-ды, стучит сердце. И ты в дырочку смотришь: "Ой, улыбнулся тот зритель, а тот, видите, как смотрит".
— По-прежнему в дырочку на зрителей смотрите?
— А как же? Интересно же. И конечно, ты: "Ох, засмеялись". А вдруг засмеялись там, где ты совсем не ожидал. И вдруг на следующем спектакле на этом же месте они засмеялись. И ты кайфуешь — даже ты предположить не мог, что так произойдет. А иногда молчат, мертвый зал. И думаешь: "Боже". Потеешь, думаешь: "Все, провал!" Вдруг кончается спектакль, они все встают и скандируют, и вызывают артистов. Ну значит другими путями шло восприятие твоей работы. Ты не до всего догадался. Потому что зрительный зал — это дополнительная режиссура. Это испытание всегда, это проверка, экзамен.
— А бывает такое: вы спектакль поставили, душу вложили, вышли — и позор? И вот не принимают, освистывают и, вообще, все неправильно. Все не так. Было такое за 29 лет?
— Волнение, что будет позор, было. А самого позора я, честно говоря, за собой не помню. Ну есть больший успех, меньший— конечно,такое бывает.Тутния судия. Тутдальшенадо слушать:как воспринимают, что друзья думают. Друзья — это всегда самые строгие судьи. Вот Алик Аксельрод говорил: "Ты делай для друзей, ты мысленно спрашивай себя: "А как к этому отнесется А, B, C"? Но я повысил себе планку, скажу откровенно. Раньше я апеллировал к друзьям, к близкому окружению: "А что скажет жена, теща, сын? А что скажут другие актеры, не участвовавшие в этом спектакле?" Это и сейчас для меня осталось критерием. Но самыми главными все же стали такие вопросы: "А что сказал бы Товстоногов, вкус которого я знаю и которому я доверяю? А что сказал бы Станиславский? А что сказал бы Мейерхольд?"
Ты ведешь с каждым из этих гениев внутреннюю дискуссию, ты можешь объяснить ему, почему ты так сделал. Это уже профессиональный разговор в твоем воображении. Эти мастера могут тебе, ничтожному, предъявить гамбургский счет. И вот по гамбургскому счету ты должен вести с ними диспут. Дело не в комплиментах, которые они тебе отвесят, а в том мнении высоком, которое они скажут о твоем труде. И им надо верить.
Это только Хлестаковы от искусства могут так работать — те, для кого не существует мнения зрителей, мнения друзей, классиков, художников, учителей. У нас много сейчас хлестаковствующих художников, самозванцев, лиц, которых я бы не подпустил к искусству. Потому что они своими задачами и целями имеют ценности, совершенно противоположные моим. Но это их право, их дело. Дай им бог здоровья! Я ничего не могу с ними сделать, я с ними не собираюсь полемизировать. Я — ДОЛЖЕН — ДЕЛАТЬ — СВОЕ — ДЕЛО. И все! Если оно необходимо людям, оно докажет свою необходимость. Если нет, значит оно будет моим поражением, моей слабостью. И я буду должен тогда это признать. Но пока что Бог миловал.
— Для вас важны оценки близких, оценки великих, а ваша собственная оценка? Она есть? Или вы всегда недовольны? Всегда кажется, что-то не сделано?
— Вы знаете, это вопрос характера, вопрос внутреннего какого-то мужества. Я закончил какую-то работу, и мне нужно от нее отдалиться. Я вот посмотрел одну премьеру, вторую, третью, а потом я могу год не приходить на этот спектакль, потому что я уже занят следующим. А потом когда снова пересмотрю его, то с удивлением обнаруживаю в нем вещи, которые мне понравились, и с ужасом обнаруживаю вещи, которые надо было сделать по-другому.
— И вы начинаете переделывать?
— Редко. Просто времени не хватает. И для этого должен быть случай. Пришел новый актер, ему надо сделать ввод. Ты возвращаешься к старой работе, ставишь ему какие-то задачи. И с новым актером ты можешь по-новому поставить задачу и переделать. Что такое искусство режиссуры? Это искусство композиции. Вот Товстоногов меня этому учил. Композиции, соотношению частей. Поиск смысла, потом форма. Эту структуру изначально можно только предположить, а когда ты сделал все, то ее нужно почувствовать. А на последнем этапе я буквально занят тем, что вырезаю куски, которые уже сделал.
Мне говорят: "Марк Григорич, зачем вы кромсаете?" А я говорю: "Подожди. Надо". Я делаю харакири. Надо иметь мужество. Почему? Потому что это опять урок Товстоногова. Я видел, как он за ночь перед премьерой искромсал свой спектакль, который был на генеральной в одном виде, а на следующий день — на премьере — он был совершенно в другом. И вышло блестяще! И вышло лучше! Вот это и есть высшее мастерство. С одной стороны, нужно влюбляться в материал, с другой, нужно иметь мужество кромсать, резать.
— Но вы режете сценарий?
— Но вместе со сценарием иногда и целые эпизоды. Для этого нужно придумывать другие переходы. Вот это и есть искусство композиции. В басне, в легенде это звучит так: "Возьмите кусок камня и отделите все лишнее". Но у одного почему-то Микеланджело, а у другого — какая-то дурь возникает. Тайна, тайна. К этому надо подойти. Даже не надо особенно трогать. Надо оставлять тайну. Вот такой подход лично мне ближе.
Читайте также: Секрет вечной молодости ветеранов сцены
Читайте самое интересное в рубрике "Общество"
Интервью к публикации подготовила